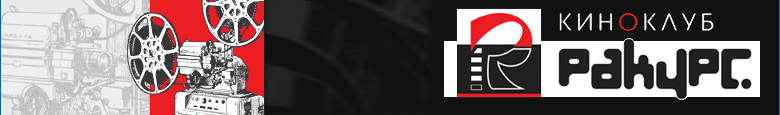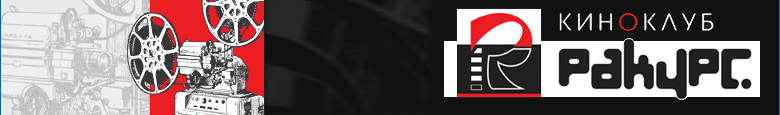Главная 
Афиша 
Новости 
Рейтинг 
Контакты 
 RSS RSS
|
|
ЗЕРКАЛО (16+)
 |
09 апреля 2015
19.00
ОТБОРНЫЕ КАДРЫ. КЛАССИКА. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Юбилеи года. К 40-летию фильма
Малый зал дома актера
ЗЕРКАЛО (16+)
СССР, 1975, 1:50
АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ
Голос за кадром Иннокентия Смоктуновского
Показ этого фильма 3 октября 1979 года стал первым в работе киноклуба, известного теперь как «Ракурс».
Самый личный фильм Андрея Тарковского, главный персонаж которого - alter ego автора - оказывается наедине с собой, наедине с Природой, наедине с Женщиной, наедине с Историей. Магия великого кино, повлиявшая на несколько поколений кинематографистов всего мира.
Официальный сайт 
Самый личный фильм Андрея Тарковского, главный персонаж которого - alter ego автора - оказывается наедине с собой , наедине с Природой, наедине с Женщиной, наедине с Историей. Магия великого кино, повлиявшая на все поколения кинематографистов всего мира.
Фильм-воспоминание, а точнее, фильм-размышление. Первоначальное рабочее название фильма — «Белый, белый день».
Тарковский о фильме:
«В «Зеркале» мне хотелось рассказать не о себе, вовсе не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о моих взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и своей несостоятельности по отношению к ним - о чувстве невосполнимого долга...»
Сюжет
Фильм не имеет чёткой сюжетной линии. События происходят в трёх временных пластах: до, во время, и после войны. Фильм состоит из сновидений и воспоминаний Алексея (Игната Данильцева). Воспоминания и сны касаются в основном матери, деревенского дома, где Алексей провел детство, а также жены Алексея и его сына Игната.
Фильм начинается так: Алексей смотрит телевизор, где показывают, как врач лечит сильно заикающегося юношу. Главные события в жизни героя — развод матери, послевоенное детство — поданы плавно, события постепенно сменяют друг друга, чередуясь с кадрами кинохроники. Семейные разговоры придают уют картине, в финале — неторопливый разговор юных родителей Алексея о ребёнке, которого они только ещё ждут.
Главный герой киноповествования, — Алексей, находится в кадре, только будучи ребёнком. Взрослым в «полный рост» он не показан: мы слышим его голос (И.Смоктуновский), видим его руки, и его самого (возможно, на смертном одре), — камера смотрит словно бы его глазами…
В фильме много побочных линий и документальных вставок, отсылающих к истории Гражданской войны в Испании, суровым реалиям Великой Отечественной, запускам советских стратостатов.
Фильм сопровождается звучащими за кадром стихами Арсения Тарковского в исполнении автора, музыкой Баха, Пёрселла и др. композиторов.
[править] В ролях
Текст от Автора читает Иннокентий Смоктуновский
Стихи читает Арсений Тарковский
* Маргарита Терехова — Мать, Наталья
* Олег Янковский — Отец
* Филипп Янковский — Алёша (5 лет)
* Игнат Данильцев — Молодой Алексей (12 лет), Игнат
* Николай Гринько — директор типографии
* Алла Демидова — Лиза
* Юрий Назаров — военный инструктор
* Анатолий Солоницын — Доктор
* Лариса Тарковская — Надежда
* Тамара Огородникова — няня, соседка, странная женщина за чайным столиком
* Тамара Решетникова
* Дель Боске, Э. — испанец
[править] Съёмочная группа
* Режиссёр: Андрей Тарковский
* Сценарий:
o Александр Мишарин,
o Андрей Тарковский
* Оператор: Георгий Рерберг
* Композитор: Эдуард Артемьев
* Художник: Николай Двигубский
* Эффекты: Ю. Потапов
* Монтаж: Людмила Фейгинова
[править] Призы и награды
* 1980 — Приз «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм, показанный в Италии.
[править] Варианты интерпретаций
* В зеркале человек видит себя. Так и в этом фильме главного героя не показывают, все действия показываются так, как он их воспринимает, видит в отражении своего сознания. Именно поэтому мать и жена видятся ему как один образ, одни герои фильма иногда замещаются другими.
* Одна из многочисленных интерпретаций фильма дана в «Словаре культуры ХХ века» В.Руднева.
* В.Михалкович, «Кинотавр-96», программа «Выбор критика»: «Для меня величайший фильм „всех времен и народов“ — „Зеркало“ Тарковского . Кино в высших своих достижениях давно стало искусством, способным выражать глубочайшие философские истины. Тем самым оно сравнимо, скажем, с прозой Достоевского или драматургией Шекспира. Но нигде, ни в одном из этих достижений не показан столь впечатляюще и проникновенно, причём — чисто кинематографически, без посредства абстракций, мир за гранью „тайцзи“ — Великого предела, то есть утратившей гармонию „инь“ и „ян“ — мужского и женского начал».
[править] Андрей Тарковский о своём фильме
* «В „Зеркале“ мне хотелось рассказать не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о моих взаимоотношениями с ними, о вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве долга» [1].
* «Успех „Зеркала“ меня лишний раз убедил в правильности догадки, которую я связывал с проблемой важности личного эмоционального опыта при рассказе с экрана. Может быть, кино — самое личное искусство, самое интимное. Только интимная авторская правда в кино сложится для зрителя в убедительный аргумент при восприятии»[1].
* «„Зеркало“ — антимещанское кино, и поэтому у него не может не быть множества врагов. „Зеркало“ религиозно. И конечно, непонятно массе, привыкшей к киношке и не умеющей читать книг, слушать музыку, глядеть живопись… Никаким массам искусства и не надо, а нужно совсем другое — развлечение, отдыхательное зрелище, на фоне нравоучительного „сюжета“»[1].
[править] Факты
* В фильме появляется афиша «Андрея Рублёва».
* Фрагменты из фильма используются в картинах «Кино про кино» (2002) и «Кэнди» (2006)[2].
«Зеркало» — самое полное выражение авторской личности Тарковского. Между тем ни одна из его картин не пережила такой сложной внутренней истории.
Тарковский в принципе против эксперимента там, где речь идет о кинопроизводстве. Между тем вся работа над сценарием была сплошным «опытом», намерением приблизить создание фильма к способу создания литературного произведения. Идея о равноправии кино как искусства авторского с другими видами искусства всегда владела Тарковским, и «Зеркало» воплощает ее наиболее полно.
Первоначальный замысел почти целиком был посвящен матери. «Я не могу мириться с тем, что мать умрет. Я буду протестовать против этого и доказывать, что мать бессмертна. Я хочу убедить других в ее яркой индивидуальности и конкретной неповторимости. Внутренняя предпосылка — сделать анализ характера с претензией на то, что мать бессмертна».
Между тем трудно себе представить замысел этически, а не только практически — менее исполнимый, нежели то, что под первоначальным названием «Исповедь» было предложено режиссером студии в том же году, что и «Солярис».
Идея сценария, занимавшая воображение режиссера чуть не до самых съемок, обнаруживает очевидную зависимость от телевизионного мышления, начавшего оказывать обратное и сильное воздействие на кино. Тарковский предложил вниманию студии «фильм-анкету» — по сути, телевизионный жанр, — который он намеревался довести до высочайшего уровня художественности.
Предполагалось, что картина будет состоять из трех слоев материала. Один — главный и определяющий слой — анкета, предложенная его собственной матери Марии Ивановне Вишняковой, со множеством самых разнообразных вопросов. Они касались всего на свете — отношения к космосу и отношения к войне во Вьетнаме; веры или неверия в бога; личной семейной истории и истории души.
Предполагалось, что это будет нечто вроде психоаналитического сеанса, где надо вспомнить свой самый постыдный поступок, самое трагическое или самое счастливое переживание; рассказать о любви к мужу и любви к детям. И в то же время нечто вроде телеинтервью на общемировые темы — список вопросов, записанный в нескольких вариантах сценария, был огромен.
Другой слой должны были составить «имитированные» факты прошлого — то есть игровые эпизоды воспоминаний автора о своем детстве. И, наконец, третий — хроника. Оба эти слоя и образовали окончательный вариант картины.
Предполагалось, что беседа с матерью, которую под видом помощника, собирающего материал для сценария, должна вести женщина-психиатр («Ведущая»), будет сниматься в строжайшей тайне от самой «героини», скрытой камерой, в квартире, специально для этого случая оборудованной тремя кинокамерами. (В идеале — о чем речи, впрочем, не было — это, разумеется, телекамеры.)
Сама по себе идея «скрытой камеры» и «факта», понятого как факт подлинной реальности, тревожила умы. Сошлюсь на собственный опыт. Мы с Ю. Ханютиным предложили М. Ромму, после «Обыкновенного фашизма», идею документального фильма о безмотивном убийстве: нашли соответствующее «дело» и точно так же предполагали, что съемки будут вестись скрытой камерой в зале суда и дополняться интервью (или беседами — мы, как и Тарковский, предпочитали эту форму диалога) с подсудимыми, с матерью убитого и матерью убийцы, соседями и свидетелями. В какой-то момент предполагалось ввести даже игровые эпизоды самого убийства в версиях разных его участников, не говоря уже о хронике текущей жизни. Дело — по сумме причин — дошло лишь до стадии литературного сценария, который и был частично опубликован на страницах журнала «Журналист» (1967, No 1) под названием «Без смягчающих обстоятельств».
Об этом я вспоминаю лишь оттого, что сама по себе форма, предложенная Тарковским для «Исповеди», действительно, по-видимому, носилась в воздухе. Ни он о нашем замысле, ни мы о его, разумеется, ничего тогда не знали. Но и перед нами вставал тот же этический вопрос: можно ли скрытой камерой снимать слезы матери, когда выносят приговор ее сыну? Хотя то, что происходит в зале суда, происходит прилюдно, открыто и никто не заботится об интимности своих чувств.
Насколько же двусмысленнее этическое положение режиссера, который предполагает вызвать собственную мать на откровенность, вовсе не предназначенную для камеры, и потом ее опубликовать. Исповедь, обращенная к человечеству, жанр со времен Жан-Жака Руссо традиционный. Но, наверное, еще не настало то время, когда можно понудить к исповеди другого.
Может быть, поэтому анкета, которая долго фигурировала в литературном варианте сценария, осталась на бумаге.
…В какой-то момент «дело» сценария «Исповедь» было закрыто. Тарковский приступил к съемкам «Соляриса». Может быть, именно эта рокировка замыслов сделала земные сцены «Соляриса» такими живыми и пульсирующими: они вобрали в себя разбуженные воспоминания.
«Дело» открылось вновь, как «дело» сценария «Белый-белый день…», в 1973 году. Заголовок был заимствован из стихов Арсения Тарковского:
«Камень лежит
у жасмина,
Под этим камнем
клад.
Отец стоит на
дорожке.
Белый-белый
день».
История матери — история детства — была в нем полнее, чем впоследствии в фильме, а Натальи, Игната — иначе говоря, всего «удвоения» прошлого настоящим — еще не было совсем.
Сценарий начинался белым-белым зимним днем на кладбище. «Казенной землемершею», как сказано у Пастернака, смерть встречала героя: были похороны. Сейчас это «воспоминание о будущем» могло бы показаться пророческим.
«Смерть осуществляет заключительный монтаж нашей жизни,— писал поэт, кинематографист и семиолог Пьер Паоло Пазолини,— после смерти, по истечении потока жизни проявляется смысл этого потока».
…Отсюда, из этого белого-белого кладбищенского дня и оглядывался в заповедную область детских воспоминаний лирический герой фильма.
…С гувернанткой-француженкой мальчик стоит в толпе, глазеющей, как рушат дряхлую деревенскую церковь в 1939 году.
…В дождь мать бежит в типографию, потому что ей показалось, что в весьма ответственное издание вкралась ошибка.
…В войну мать торгует букетиками цветов на рынке, и сын с ожесточением помогает ей рвать на продажу эти скудные, некрасивые цветы.
…Ночью мать возвращается лесом с детьми, и ими овладевает безотчетный (хотя и вполне понятный) страх.
…Контуженный военрук, над которым смеются школьники, спасает их, прикрыв своим телом гранату.
…Мать, ставшая уже бабушкой, приходит на ипподром, чтобы вместо дочери посидеть с внуком, и сын вспоминает, как его понесла и чуть не убила лошадь.
Все эти эпизоды, по большей части связанные с матерью, складывали гордый и жалкий образ брошенной, навевавший сыну безжалостную ассоциацию с «униженными и оскорбленными» героинями Достоевского.
Половина эпизодов — разрушение церкви, торговля цветами, ночной лес, ипподром — по дороге отпали, зато другие — типография, продажа сережек, военрук — выросли, видоизменились, окрепли, и если не сложились в «историю», то составили тот свободный ассоциативный ряд, к которому прибавился новый и не менее важный — отношения героя с женой, — в размолвках и душевной путанице разрыва отражающий почти зеркально разрыв родителей.
Собственно, и «сдвоение» образа матери-жены, и тема «зеркала» в «Солярисе» уже были попутно сформулированы и ждали своего более полного осуществления. Можно на множество ладов истолковать название, которое в конце концов Тарковский дал фильму, но среди них не последнее место должно быть отдано соображениям пьяного Снаута из «Соляриса» о том, что человечеству нужен не космос — нужно зеркало самого себя. «Человеку нужен человек». Но как трудно осуществить на деле эту, казалось бы, такую простую истину! Человеку нужен человек, а между тем
«Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?..»
И фильм начинается в момент, когда разрыв между отцом и матерью уже совершился и должен лишь стать бытовым фактом.
На самом деле картина начинается с пролога: сеанс из лечения заики снят документально и является рудиментом телевизионного мышления. Не потому, что формально идет на экране телевизора, а по существу приема «прямой» передачи. Пролог по-своему перефразирует тему «исповеди», заявленную в самом общем виде как усилие освободиться от немоты, заговорить. В «Зеркале» несколько подобных замен, которые наглядно демонстрируют механизм того, что в психологии называется «замещением».
Но собственная поэзия фильма начинается за прологом: с покосившегося плетня, с матери, глядящей в даль теряющейся в лесной темноте дороги.
Эпизод со случайным прохожим, на минуту вынырнувшим из-за поворота, не только информация: это — не отец, отец не придет, он ушел из семьи. Он кажется введенным специально для того, чтобы дать место излюбленному актеру Тарковского — Солоницыну (Андрею в «Рублеве», замечательному Сарториусу в «Солярисе»). Этот странный лобастый человек как бы приносит с собой вибрацию жизни, богатство еще-таящихся в будущем возможностей. Но выбор уже совершен молодой женщиной: одинокое, ревностное и самоотверженное воспитание детей.
Подобно Феллини, Тарковский мог бы назвать фильм «Амаркорд» («Я вспоминаю»). Фильм как бы откликается строчкам отца о «Белом дне»:
«Вернуться туда невозможно и рассказать нельзя…»
Отказавшись от похорон и «заместив» их кризисом героя в финале, Тарковский не отказался от соприсутствия в фильме. Он «вспоминает» самым буквальным образом — зрительный ряд реализует в образах закадровый монолог.
Разумеется, для нашего поколения фильм имеет еще особую, неизъяснимую прелесть узнавания, тождества детских воспоминаний. Его можно назвать «Мы вспоминаем». Бревенчатые темные сени, пахнущие смолой, пылью и керосином; кружевные, вздутые ветром занавески; узкое стекло лампы-пятилинейки; слюдяное окошечко керосинки со скудным чадящим пламенем; и стеклянные кувшины, бессмысленно повторяющие традиционную форму кринки, в которые ставили букеты полевых цветов; и сама кринка с остуженным на погребе парным молоком, вся в крупных прохладных каплях; и полотняное с шитьем платье матери — такие тогда продавали в «купонах», — и волосы, небрежно уложенные узлом на нежном затылке, — вся эта смесь полугородского, полудеревенского быта в лесной, еще просторной тишине подмосковных и всяких прочих дач, все это хрупкое предвоенное бытие нашего детства с редкой, почти волшебной вещественностью передано камерой оператора Г. Рерберга.
«Остановись, мгновенье!» — не кино ли предвосхищал Мефистофель, когда заключал сделку с Фаустом? Для Тарковского, во всяком случае, это так. Он смакует порыв ветра, опрокинувший лампу, снесший со стола узкое ее стекло и тяжелую буханку хлеба, подхвативший кипящие листвой кроны деревьев, — возвращается к нему, останавливает, растягивает — мнет это «прекрасное мгновенье» детской приобщенности миру, как скульптор прилежно мнет глину. Возвращается к этому привычному сну героя. Нигде еще идея кино как «запечатленного времени» не была реализована им так полно, как в «Зеркале».
Стремление остаться «при факте» повлекло за собой распад повествовательной структуры, а это, в свою очередь, и может быть, даже вопреки намерениям автора, стремительное нарастание всякого рода «тропов»: метонимий, эллипсов, сравнений, фигур умолчания и прочих чисто кинематографических фигур — всего, что требует от зрителя истолковательного усилия. «Зеркало» — самый конкретный, но и самый иносказательный из фильмов Тарковского, самый «документальный», но и самый «поэтический».
«Документальны» стихи Арсения Тарковского — отца Андрея,— которые читает сам Арсений Тарковский. «Документально» присутствие на экране старой матери. Но это же влечет за собой необходимость «двойной экспозиции» персонажа, когда один и тот же персонаж является в двух лицах или, наоборот, одно лицо выступает в двух ипостасях (троп чисто кинематографический). Так, Игнат представляет себя, но и автора в детстве; так, актриса М. Терехова совмещает в себе молодую мать и жену героя.
Режиссер предложил актрисе трудную задачу: воплотить один и тот же женский тип в двух временах — довоенную и послевоенную «эмансипированную» женщину. И она с ней справилась. Удивительна в Маргарите Тереховой эта старомодная, изящная и выносливая женственность наших матерей; удивительна и сегодняшняя ее сиротливая бравада своею самостоятельностью, свобода, обернувшаяся одиночеством.
Темы собственно «любовные» никогда специально не занимали Тарковского — они входят у него в состав гораздо более общих проблем. Так, в «Зеркале», пройдя через разные времена, любовь оказывается одинаково хрупкой и оставляет женщину перед лицом жизни с детьми на руках и с неизбывной любовью к ним, которая так же обманет, когда сама она станет старой, а дети взрослыми. Так каждое поколение, пройдя через свои жизненные испытания, оказывается перед теми же «проклятыми» и «вечными» вопросами, а эстафета любви и материнства уходит в бесконечную даль времен (странная мудрость в сравнительно молодом человеке, который делал фильм).
Двойная и тройная экспозиция персонажа приобретает, таким образом, значение почти мифологического тождества-различия (недаром на вопрос Натальи герой один раз отвечает, что да, она похожа на мать, другой раз, что нет, не похожа), а отношение и игра времен заменяют фильму повествовательный сюжет.
Разумеется, способ рассказа, при котором история общая раскрывает себя через перипетии семейной истории, привычнее и оттого доступнее; так, в прекрасной новелле о типографии психологическая атмосфера подспудного страха сталинских времен преломляется через сюжет малой, в конце концов даже не существующей ошибки. Эти новеллы и запоминаются как «содержание» фильма.
В детстве каждому из нас пришлось сделать усилие, чтобы понять, как это так: ты бегаешь по двору, а земля вертится — разность масштаба с трудом охватывалась воображением.
Непривычность же и смысл фильма «Зеркало» — в разномасштабности: времени его свойственны разные измерения.
Два человека, равно травмированные войной, — военрук и мальчик — ведут свою маленькую войну на пяди школьного тира. А рядом, встык, хроника: солдаты, тянущие орудия по нескончаемой жиже военных дорог, нескончаемо идущие и идущие через грязь, через реки, через годы войны в вечность. История входит в микрокосм быта, не уменьшаясь до сюжетного мотива. Ее время течет иначе, чем на малых часах человеческого пульса. Мальчик стоит на пригорке, птица слетает к нему, и вот уже салюты победы, и труп Гитлера возле волчьего логова — надо ли удивляться, что пространство кадра расширяется до космического угла зрения картин Брейгеля? А музыка Баха и Перселла придает почти дантовскую строгую печаль невзрачным, серым кадрам хроники?
Искусство и хроника, хроника и искусство — две точки отсчета, между которыми, начиная с «Иванова детства», располагал Тарковский мир своих фильмов.
Искусство входит в мир Алексея с толстым дореволюционным томом Брокгауза, раскрытым на рисунке Леонардо. Искусство завладевает впечатлительной душой, оно преобразует мир воспоминании, и докторша Соловьева, и весь ее добротный, сытый уют в годину войны, и херувимский младенец в волнах кружев некстати нарядно одеваются в колорит и фактуру полотен Возрождения.
А рядом снова хроника: первые стратостаты — стратостаты и дирижабли так же неотделимы от нашего детства, как сводки с испанских фронтов, первые бомбежки Мадрида и испанские дети, которых провожают в дальний путь.
Тема родины парадоксально входит в фильм чужой, музыкальной испанской речью. Почему испанской? Да потому, что они и сейчас живут среди нас, испанские дети, давно перестав быть детьми, но не перестав быть испанцами. История и существование снова идут рядом, не претворяясь в уютное единство, оставаясь в сложном дополняющем противоречии.
Оттого и пусты в этом фильме вопросы — почему отец героя ушел из семьи? А почему Алексей не ужился с Натальей?
Да нипочему, в том и вина. Не оттого ли Алексей и оглядывается, как в зеркало, в невнятицу родительских размолвок, что в них всего и было внятного, что первая любовь? И несущественный перечень взаимных болей, бед и обид, монотонно перебираемый с Натальей, не искупает вины, не успокаивает совести и не утоляет жажды абсолютной любви, такой же вечной, как потребность в идеальной гармонии.
Так реализуется в фильме тема матери. С трудным характером. С нелегкой судьбой, которая еще и еще будет повторяться, как в зеркале, хотя, кажется, что проще — осознать ошибки, учесть опыт…
Помните тот кадр, когда мать — еще молодая — долго-долго смотрит в туманящееся зеркало, пока в глубине его не проясняется иное, уже старое материнское лицо? «С той стороны зеркального стекла», — сказал поэт Арсений Тарковский. «Машина времени», — сказал бы фантаст. Память, всего лишь память, которая в нашем обычном трехмерном мире заменяет четвертое измерение, позволяя времени течь в любую сторону, как, увы, никогда не течет оно в реальности. Тарковскому в высшей степени свойственно это особое ощущение пространства-времени фильма, которое физики называют четвертым измерением.
Так, пройдя через все перипетии памяти: памяти-совести и памяти-вины, — режиссер совместил в пространстве одного финального кадра два среза времени, в монтажном стыке — даже три. И молодая женщина, которая еще только ждет первого ребенка, увидит поле и дорогу, вьющуюся вдаль, и себя — уже старую, ведущую за руку тех прежних, стриженных под ноль ребятишек в неуклюжих рубашонках предвоенной поры; и себя же молодую, но уже оставленную на другом конце этого жизненного поля (жизнь прожить — не поле перейти), глядящую в свое еще не свершившееся будущее…
Так идеальным образом материнской любви, неизменной во времени, в странном, совмещающем в своем пространстве два разных времени кадре закончит режиссер свое путешествие по памятным перекресткам наших дней. Сложный фильм человечен и даже прост по своим мотивам. История, искусство, родина, дом…
Окончательный вариант сценария фильма был сдан в середине 1973 года, а в сентябре начались съемки, к марту 1974 года съемочный период был закончен и начался как никогда мучительный монтажный период. Группа не верила своим глазам, когда картина наконец «встала да ноги».
По сравнению с «Андреем Рублевым» бюрократический «инкубационный период» «Зеркала» был сравнительно сжат, но напряжен. Дабы не повторять скандала с «Рублевым», фильм был разрешен, но прокат его был столь ограничен, что долгие годы он был скорее легендой, нежели реальным фактом нашего кино. Камнем преткновения был старый дискуссионный вопрос о доступности картины. На одном из предварительных обсуждений на «Мосфильме» Тарковский сформулировал свою позицию: «Поскольку кино все-таки искусство, то оно не может быть понятно больше, чем все другие виды искусства… Я не вижу в массовости никакого смысла…
Родился какой-то миф о моей недоступности и непонятности. Единственная картина на студии сегодня, о которой можно говорить серьезно, — это «Калина красная» Шукшина. В остальных ничего не понятно — с точки зрения искусства. Утвердить себя личностью своеобразной невозможно без дифференциации зрителя».
Дифференциация началась еще до зрителя. Коллеги режиссера по объединению, где он сделал до этого три фильма, высказали столько недовольства на обсуждении, что после «Зеркала» Тарковский из объединения ушел.
Отзвуки внутри- и внестудийных споров тогда же нашли официальное выражение на совместном заседании коллегии Госкино и секретариата правления Союза кинематографистов, которое в сокращенном виде было опубликовано в журнале «Искусство кино» (1975, No3, с. 1—18). Обсуждались четыре фильма: «Самый жаркий месяц» Ю. Карасика, «Романс о влюбленных» А. Михалкова-Кончаловского, «Осень» А. Смирнова (картина легла на полку) и «Зеркало» А. Тарковского. В обсуждении участвовали:
Ф. Ермаш, Н. Сизов, С. Герасимов, Г. Капралов, А. Караганов, В. Наумов, Б. Метальников, В. Баскаков, В. Соловьев, Д. Орлов, М. Хуциев, Г. Чухрай, С. Ростоцкий, Ю. Райзман, Л. Кулиджанов. Отсылая читателей к публикации, отмечу лишь одну печальную закономерность: при всех оттенках и нюансах относительно частностей фильма «Зеркало» — единодушие в главном, наиболее программно сформулированное тогдашним первым заместителем председателя Госкино В. Баскаковым («Фильм поднимает интересные морально-этические проблемы, но разобраться в нем трудно. Это фильм для узкого круга зрителей, он элитарен. А кино по самой сути своей не может быть элитарным искусством») и одним из секретарей Союза кинематографистов Г. Чухраем («…эта картина у Тарковского — неудавшаяся. Человек хотел рассказать о времени и о себе. О себе, может быть, получилось. Но не о времени»).
Что касается критических статей, то это предмет особой истории. Наша с В. Деминым полемика о «Зеркале» под рубрикой «Два мнения об одном фильме» была снята со страниц «Литературной газеты» уже в верстке. (Советский критик, как прежде, так и теперь, практически отделен от печати и располагает лишь одним правом: писать или не писать то, что он думает. Долгие годы критика зрелищных искусств была «кулуарной» по преимуществу, лишь спорадически попадая на страницы печати, — это надо иметь в виду будущему историку.)
И за пределами студии «дифференциация зрителя», обычно сопутствующая лентам Тарковского, никогда еще не была столь полярна. Я очень хорошо помню первый просмотр «Зеркала» в Доме кино, потому что мною — в буквальном смысле этого слова — вышибли стеклянную дверь: не было кинематографиста, который не хотел бы увидеть фильм. Сам Тарковский говорит, что не было в его жизни фильма, который его коллеги-режиссеры приняли бы так по-разному: с возмущением и восхищением.
Может быть, сама откровенность, обнаженность личной исповеди, которая не в традициях отечественного кино, тому виной. Ведь недаром же ушел, познакомившись со сценарием, постоянный оператор Тарковского Вадим Юсов!
Мнение публики раскололось так же резко, но любопытство к фильму было не меньше, чем в Доме кино.
Отношение коллег Тарковский переживал настолько болезненно, что чуть было не решил вообще бросить кино. Но — странное дело — никогда еще этот режиссер, признанный «элитарным», не получал такого количества личных писем от зрителей. Письма эти разные — раздраженные, восторженные, критические, — может быть, впервые в жизни дали ему то реальное ощущение человеческого отклика, по которому этот замкнутый, себе довлеющий художник втайне всегда тосковал. С этим фильмом он нашел «своего» зрителя.
А. Тарковский — о фильме «Зеркало»
1. «Зеркало» монтировалось с огромным трудом: существовало около двадцати с лишним вариантов монтажа картины. Я говорю не об изменении отдельных склеек, но о кардинальных переменах в конструкции, в самом чередовании эпизодов. Картина не держалась, не желала вставать на ноги, рассыпалась на глазах, в ней не было никакой целостности, никакой внутренней связи, обязательности, никакой логики. И вдруг, в один прекрасный день, когда мы нашли возможность сделать еще одну, последнюю отчаянную перестановку, картина возникла.
Я еще долго не мог поверить, что чудо совершилось…».
2. «В «Зеркале» всего около двухсот кадров. Это очень немного, учитывая, что в картине такого же метража их содержится обычно около пятисот. В «Зеркале» малое количество кадров определяется их длиной…».
3. «Вот когда кино уйдет из-под власти денег (в смысле производственных затрат), когда будет изобретен способ фиксировать реальность для автора художественного произведения (бумага и перо, холст и краска, мрамор и резец, икс и автор фильма), тогда посмотрим. Тогда кино станет первым искусством, а его муза — царицей всех других».
4. «Когда отец это увидел, он сказал матери: «Видишь, как он с нами расправился». Он сказал это с улыбкой, но, наверное, его что-то задело там. Они только не заметили, как я сам с собой расправился — только как я с ними расправился».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E5%F0%EA%E0%EB%EE_%28%F4%E8%EB%FC%EC,_1974%29
http://www.kinopoisk.ru/film/45275/
|
|
|